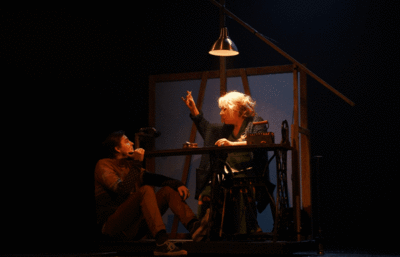«Где нет зимы»: остросоциальная сказка Яны Туминой
«Люди готовы думать, что они ненужные и несчастные, даже если вокруг них куча народу. Люди вообще нелогично себя ведут.»
(«Где нет зимы». Дина Сабитова)
На сцене МДТ – Театра Европы 7 февраля состоялся показ пронзительного спектакля о детях-сиротах «Где нет зимы» петербургского режиссёра, лауреата «Золотой маски» Яны Туминой (премьера прошла 19 января). Постановка создана по мотивам повести современной писательницы Дины Сабитовой, поднимающей в своих произведениях острые и актуальные темы родительских отношений, приютов и усыновлений.
В центре сюжета – двое детей, живущих с бабушкой и мамой. Пашка (Ярослав Дяченко), тринадцатилетний мальчуган, привык быть старшим в доме и нести ответственность за младшую сестрёнку. «Чудовище ты моё!» — ласково называет он Гуль (Дарья Ленда), поясняя, что это слово — симбиоз «чуда» и «сокровища». Их бабушка Шура (Наталья Акимова), эксцентричная, никогда не унывающая и безмерно мудрая, внезапно покидает их. А следом уходит и несчастная, депрессивная, превратившаяся в тень мать-художница (Елена Соломонова). Дети остаются одни в доме, какое-то время пытаясь выжить без еды и денег, но попадают в Центр Временного Содержания. Дальше — одна дорога — в детский дом. Или нет?
«Где нет зимы» – живое, поэтичное воплощение магического реализма, когда оживают сказочные персонажи, стираются границы между миром мёртвых и живых, а время действия постоянно перемещается и будто движется по спирали – судьбы героев вновь и вновь повторяются. Маленькая Шура потеряла родителей маленькой (расстреляли большевики), но обрела добрую приёмную маму в лице горничной. Подобная судьба постигнет её внуков Пашку и Гуль много десятилетий спустя – их заберёт домой из Центра Временного Содержания женщина Мира (Екатерина Клеопина). Угловатая, растерянная, неловкая, она растит одна сына Мишу, одноклассника Гуль, и еле сводит концы с концами, но сердце её настолько велико, что любви хватит на всех.
Неизвестные факты из жизни их бабушки, Саши Тирсовой, поведает детям домовой – Аристрах Модестович (Михаил Самочко), хотя и не домовой даже, а «университетский», как гордо он величает себя – так как долгое время жил в высших образовательных учреждениях. Образ куклы-оберега Ляльки, которую не выпускает из рук восьмилетняя Гуль, гениально исполняет Мария Никифорова, а сама кукла, также присутствующая на сцене – творение художника Киры Камалидиновой.
Лялька, которую до поры до времени никто не слышит, в финале волшебным образом спасает юную хозяйку (навевая ассоциации с Рэггеди Энн из спектакля «Тряпичная кукла» Театра Дождей) и, обезумев от счастья, поёт, кружась в вихре-танце, а с ней и все-все герои спектакля, примирившись и простив друг друга.
Минималистичны декорации спектакля – парой ярких штрихов рисуется прошлое семьи – это уголок портнихи Шуры с швейной машинкой и яркими платьями и комнатка матери-художницы с мольбертом, но основной акцент художник Эмиль Капелюш (уже сотрудничавший с МДТ на постановках «Звездный мальчик» и «Ворон») делает на самом Доме в широком смысле слова. Над головами героев под волнующие композиции Анатолия Гонье взмывают стропила – превращаясь из крыши любимого дома то в лучи согревающего солнца, то в птицу с огромными крыльями, за которые хочется ухватиться и улететь, то в ёлку с размашистыми ветками-лапами, то в тюремную клетку детдома, то в гигантский маятник, отмеряющий время и вершащий судьбы.
Живительное тепло домашнего очага подчёркнуто и костюмами героев — будучи дома, они носят одежду тёплых охристо-рыжих тонов, а в Центре Временного Содержания эти же вещи тускнеют и становятся пыльно-серого цвета. Визуализировать воспоминания детей, их письма и дневники помогает видеоанимация и графика – в них Миша Сафронов и Женя Исаева воплотили воображаемый детский мир — с неровными буквами, скачущими по строчкам, мириадами звёзд и чёрно-белыми одинокими фигурками.
Несмотря на то, что Ярослав Дяченко и Дарья Ленда – взрослые актёры, в их игре чувствуется столько детскости, беззащитности и трогательности, что видишь в них именно ранимые детские души.
Постановка Яны Туминой – спектакль-сказка для взрослых, который обязательно нужно смотреть с детьми. Пусть они, как ревнивый Миша, учатся делиться с теми, у кого больше ничего нет, правильно выбирать друзей, на которых можно положиться в беде, быть преданными, как Паша, который не бросил сестрёнку в детдоме и не уехал к отцу в Красноярск, и великодушными – как Мира, после недолгих колебаний усыновляющая детей. Дай Бог, этот исключительный спектакль поможет кому-то принять такое важное жизненное решение и спасти не одну искалеченную детскую судьбу из приюта.
Текст Натальи Стародубцевой
Фотографии предоставлены МДТ
Источник
Где нет зимы мдт краткое содержание
«Самое разрушительное, что может быть — это создание резерваций». Яна Тумина — о новом спектакле в МДТ и детях в сложной ситуации
В МДТ впервые показали «Где нет зимы» — спектакль о детях-сиротах, поставленный лауреатом «Золотой маски» Яной Туминой. Накануне премьеры «Фонтанка» поговорила с режиссёром о дебюте в одном из лучших театров страны, опыте работы с детьми с синдромом Дауна и законе Димы Яковлева.
— Как вы узнали о повести Дины Сабитовой «Где нет зимы» и что вас в ней привлекло?
Узнала совершенно случайно от одной из своих учениц лаборатории для актеров, художников и режиссеров театра кукол (в Союзе театральных деятелей, — Прим.ред). Ей попалась удивительная книга Дины Сабитовой, современная детская проза, и она поделилась впечатлением, мыслью о том, как хотелось бы и насколько кажется невозможным поставить эту историю в театре.
Через некоторое время мне позвонили из МДТ с предложением постановки. Мы встретились с Львом Абрамовичем Додиным, и он был готов рассматривать любой материал, который я предложу. Пока я составляла небольшой список, вспомнила о повести Сабитовой, прочла и влюбилась в эту книгу, не смогла остаться равнодушной. Случился настоящий «чувственный ожог» — когда уже не можешь не думать о воплощении. И я решила, несмотря на короткие сроки работы и сложный материал, предложить эту книгу в списке для постановки. Честно говоря, я очень удивилась, когда услышала от Додина, что ему именно эту историю хотелось бы видеть в своем театре. Произошло прекрасное совпадение мнений: Лев Абрамович прочел повесть и сказал, что это так проникновенно, нежно, сильно, и если бы получилось рискнуть и начать работать именно с этим материалом — то он был бы счастлив.
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
— Сколько времени у вас было на постановку?
Мы разговаривали летом, и уже в сентябре начались репетиции. Выпуск — в январе. У меня были сверстаны планы, что-то пришлось отменить, перенести. Но что-то попало в этот период, и я выпустила спектакль в Петрозаводске и на сцене учебного театра на Моховой. Но, несмотря на такие параллели, нереально было отказаться от предложения ставить по мотивам «Где нет зимы» именно в МДТ, тут совпало много творческих амбиций и мотиваций, тем более что работу в Петербурге я предпочитаю работе в любом другом месте.
— Лев Абрамович давал советы?
— Очень деликатно. Даже не советы, а просто делился мыслями, без нажима, в диалоге. Мне было очень интересны и важны краткие и емкие его размышления. Мы обсуждали и выбор актеров, который практически совпал, и инсценировку, и другие моменты по ходу работы. Никакого давления, которое я могла предположить, не было. Редкое доверие и уважение. В начале даже переспрашивала: «А вы уверены, что я тот человек, который должен ставить у вас? Ведь мои спектакли совсем не в русле МДТ». Но ни разу не почувствовала его сомнения.
— Вы впервые ставите в МДТ с актерами школы Льва Додина. Чему они научились у вас?
— Режиссер никого ничему не учит: он приходит со своим миром, своей методикой. Мы слишком мало времени вместе, чтобы учить, просто знакомишь с чем-то другим и, надеюсь, интересным. Спрашивать надо у тех, кто учится или что-то берет: может, я не учу, а разрушаю, или, наоборот, закладываю то, что принесет плоды позже.
— А вы у них научились чему-нибудь?
— Учусь, безусловно, всегда, я же встречаюсь с людьми — и каждый — планета. Актеры МДТ, с которыми я встретилась в этой работе, глубокие, они выстраивают внутренние маршруты, очень проникновенны и трудолюбивы. Я могу только комплементарно говорить, что театр произвел на меня очень сильное впечатление как организм, как служение, как дисциплинарная структура. Интересы художника, автора здесь в приоритете, поэтому чувствуешь себя защищенным.
— В последнее время вы работали не только с профессиональными актерами: ваш спектакль в «Упсала-Цирке» «Я — Басё», где играют дети с синдромом Дауна, много ездил на гастроли и получил «Золотую маску». Что нового дал детям и вам этот опыт?
— Надо сказать, что и я и Александр Балсанов (соавтор, актер, исполнитель роли Басё — Прим.ред.) пришли к детям, которые уже выходили на сцену «Упсала-Цирка», то есть были готовы к сценическому труду. Другое дело, они не работали в формате целостного спектакля. Мы не собирались ничего ставить: все-таки задача была провести время вместе, экспериментируя в рамках театральной игры. Создатель и художественный руководитель «Упсала-Цирка» Лариса Афанасьева смогла организовать процесс так, что мы договорились: если понимаем, что рождается история, я беру на себя ответственность и говорю: «Все, начинаем выпускной период». Я переживала в период этой работы такие перепады настроения. Отчаяние — слово слишком громкое, но малодушие, неуверенность в профессии, в праве на такую постановку. А потом с помощью очень многих людей все получилось. «Упсала-Цирк» сделал неимоверные усилия: создание спектакля — это другие требования к службам, все иначе работает. А сейчас у них уже родился следующий спектакль, «Пиросмани». Они движутся к театру-цирку, и это здорово.
— Вы бы захотели повторить подобный опыт?
— Ставить спектакль не согласилась бы. Это не лукавство: и тогда не соглашалась, и сейчас так же. Но снова пройти новую тему, какой-то совместный путь и посмотреть, что получится на этом этапе, со мной, с нами — сегодняшними.
— Насколько, по-вашему, в России готовы принимать людей с особенностями? Готово ли общество к этому?
— Сейчас об этом больше говорят: стало неприлично быть нетолерантным, особенно к детям. Но на самом деле у нас общество не готово взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями.
А для них самое разрушительное, что может быть — это создание резерваций. То, что я сейчас скажу, реальное, объективное наблюдение: эти дети в России хуже всех говорят. Многие из них говорят, конечно, но это несравнимо меньший процент, например, чем в Испании, Голландии, Германии, в Португалии. У нас общество с ними не говорит. Когда-то мама и папа Пабло Пинеды, известного человека с синдромом Дауна, рассказали, что самый большой враг для особых детей — тишина. Тогда происходит остановка в развитии. Они должны быть вовлечены в звуковую партитуру мира: слышать звуки, голоса, музыку и иметь право на свое звучание. А у нас затыкают: слишком шумные. Да, конечно, к ним нужен особый подход, особое включение, — но только не выключение, не ограничение, не огораживание.
Рассчитывать на общественные движения не приходится, это все формально, словно для галочки. Я ни в коем случае не умаляю победы, которые наверняка, есть, но мы-то смотрим с вами на Москву и Питер, причем Питер после Москвы, потому что у нас гораздо меньше движухи в этом направлении. Например, Коля Голышев с синдромом Дауна, о котором я сделала спектакль «Колино сочинение», занимается уже несколько лет в Центре Мейерхольда (в Москве, — Прим.ред.). Там есть люди, которых я бы хотела пригласить в Питер поработать с актерами, режиссерами, занимающимся физическим, танцевальным театром, потому что особым людям очень «идет танцевать», если так можно сформулировать. Но у нас в Питере это не развито. Это два столичных города, а что в других происходит?
Есть примеры, когда человек начинает движение навстречу к особым детям, как Виталий Федоров в Хабаровском ТЮЗе, но это не общественное движение, это единичные инициативы. Такие люди, как Любовь Аркус, Лариса Афанасьева или «Перспективы» организуют вокруг себя пространства единомышленников, готовых что-то делать. Да, мы вроде бы формируем общество, но для того, чтобы появились меценаты и настоящий, закрепленный интерес, чтобы это стало стабильной структурированной помощью — не знаю, сколько еще лет пройдет. А сейчас у меня будет максимально жесткая, радикальная, депрессивная оценка: мне кажется, что у нас разрушается все. Хорошо, что есть уникальные, потрясающие личности, которым удается что-то изменить хотя бы в малом круге.
Когда я делаю спектакль, то думаю: хорошо бы зал был готов к тому, что на спектакле будут особые дети. Могут быть не готовы зрители, артисты. Нужно создавать такие ситуации, говорить: «Друзья, у нас сегодня такой зал, придите со своими детьми, будьте готовы к тому, что сегодня возможно будет что-то иначе, по-другому».
— «Где нет зимы» — повесть о двух сиротах. А как вы относитесь к закону Димы Яковлева?
— Ну как можно относиться к деструктивному? Все что можно — сделано во вред. Если разбираться глубоко, то мне кажется, что сейчас, к сожалению, государство приносит больше вреда, чем пользы по отношению к детям. Особенно к детям, попавшим в сложную ситуацию: домашнее насилие, усыновление и так далее… Может быть, я опираюсь только на единичные случаи, которые известны именно потому, что они чудовищны. Думаю, сейчас все же нужно рассчитывать только на общественный резонанс и на информационные потоки, которые непосредственно идут от человека к человеку. Ждать объективности от государственных источников не приходится.
На встрече в «Буквоеде» перед премьерой спектакля Дина Сабитова была с нами на связи по скайпу и сказала, что книги для детей писать стало очень сложно: какую тему ни ткнешь, все нельзя. Существует огромное количество табу, связанных с предрассудками, с ханжеством, с якобы отслеживанием духовного, душевного воспитания — а на самом деле , это я уже от себя, сплошное обкрадывание.
— Вам бы хотелось создать свой театр?
— Да, конечно. Это был бы проектный театр, без постоянного штата сотрудников, независимый, негосударственный. Такой театральный кластер для обучения и для развития профессионалов — художников, композиторов, актеров и режиссеров. Есть Алла Данишевская и театральное сообщество «Открытое пространство», с которым мы выпустили «Деревню канатоходцев», есть «Театральная Лаборатория Яны Туминой» и мы совпали в необходимости и желании сделать такое место в Питере. Сейчас мы делаем совместные усилия для того, чтобы могло появиться помещение. Мы предпринимали попытки сотрудничать с государством, но — пока тишина. Или вернее так: конечно же, тишина.
— Каким должно быть помещение для вашего театра?
— Идеально, если бы там было два зала, не обязательно больших: один около 180 зрителей, а другой до 100. Нужны репетиционные помещения, хотя бы две мастерские для цехов. Мы могли бы привлекать разных художников и работать с танцорами, с визуальным искусствами, соединять театр и цирк, кукольные постановки и драматические. Сейчас есть такое помещение, очень нам подходящее, и мы его «пробиваем», ведем переговоры, ищем пути для того, чтобы осилить ремонт и аренду. Конечно, у меня есть несколько предложений пойти под крышу государственного театра, но я пока удерживаюсь от этого. важнее на сегодняшний день оставаться независимым художником, чтобы делать выбор.
— Вы много преподаете. Какие ценности вы хотели бы привить своим студентам?
— Давайте у них спросим (интервью проходит на Малой сцене РГИСИ перед спектаклем, и Яна Тумина обращается к студентам рядом с нами — Прим.ред.). Это прекрасный курс, с которыми у нас сыграна премьера «Мета-Андерсена». Какие ценности я вам прививаю? Я вам их прививаю?
Один из студентов: Ну для меня театр — это способ, инструмент сформулировать вопросы для себя, поиск абсолюта, назовем это так. Я расту, учусь правде, что-то сочиняю. Театр — это когда ты дергаешь веревочку, а зрители потом говорят.
Яна Тумина: «Я плакал». Какая странная вещь — театр. Почему люди должны заплатить деньги, прийти и хотя бы час слушать вас? Что же вы такое должны вскрыть в себе для этого? какую же волшебную веревочку протянуть? Я все время себе задаю этот вопрос. Вот наше сакраментальное исследование, с актерами, художниками, это же наше варево. И потом про это будут писать, обсуждать — каждый раз, панический ужас каждый раз перед выходом работы в свет.
Я учу, что ничто в театре не стоит того, что является ЧЕЛОВЕКОМ. Его жизнью, его душой. Это самое ценное. Если к театру относиться как к инструменту для преображения, тогда он имеет смысл. А если относиться к нему как к профессии — чем мы занимаемся? На какую работу уходим от своих детей? Сколько времени потратили, сколько бессонных ночей, сколько не были в реальном мире, не стояли ногами на траве, не были среди птиц, а находились внутри черного кабинета, чтобы создать мир, куда придут люди и проведут время своей жизни, наблюдая за нашими фантазиями? В общем, это все очень странно. Мир наших фантазий, которыми мы готовы делиться, он должен быть достойным, должен иметь право в какой то момент открыться другим? Это так страшно, и ответственно, и так невероятно мощно.
В одном из интервью я говорила: «Театр — это инструмент для спасения». Вот и все. На разном уровне можно воспринять это слово. Потому что, конечно, всем нам тяжело очень. Особенно в нашей стране театр очень важен, и поэтому нужно здесь работать.
Беседовала Софья Козич, специально для «Фонтанки.ру»
Источник