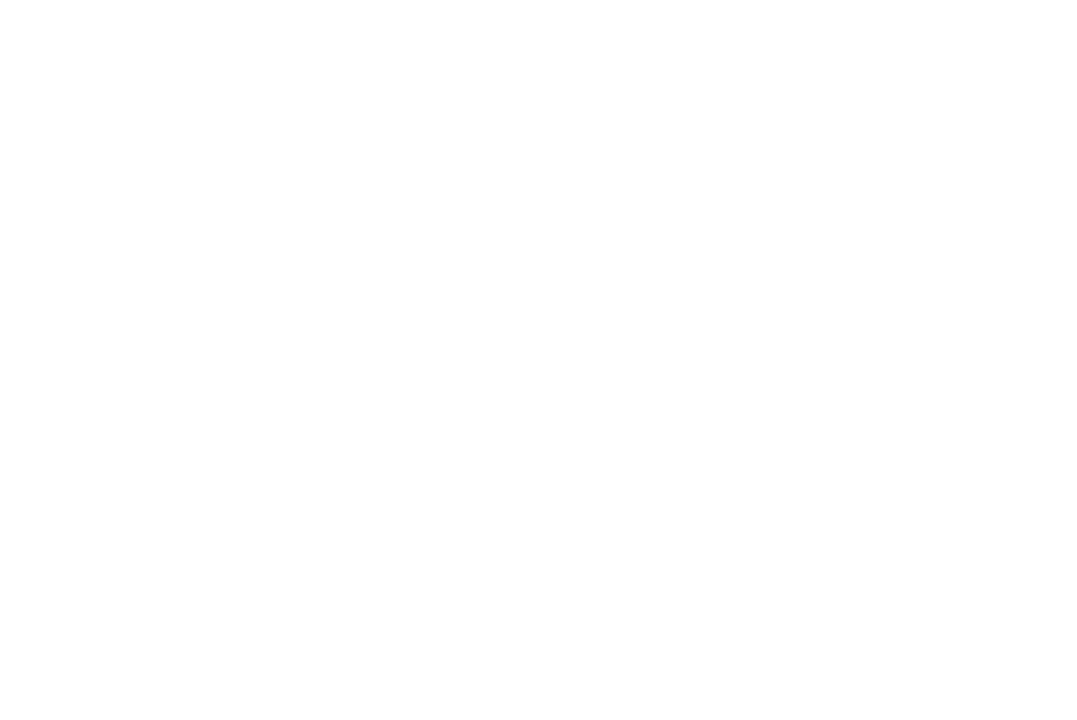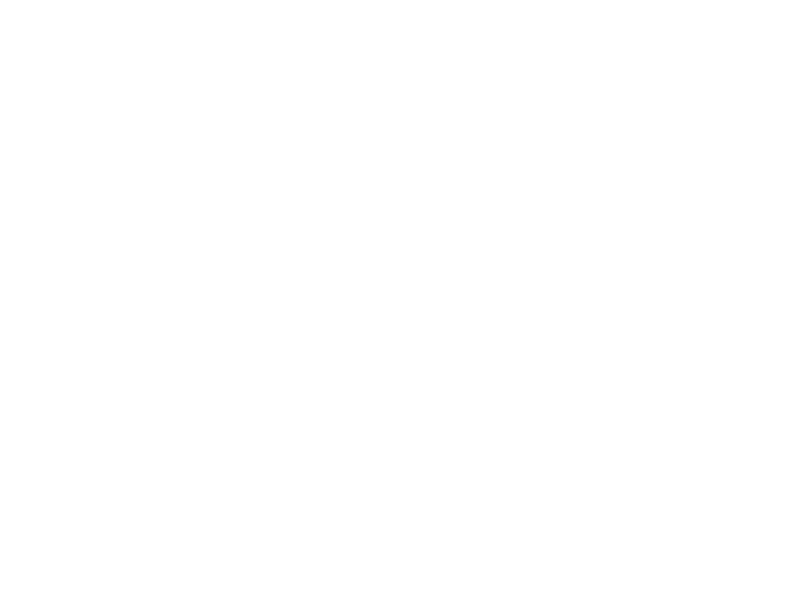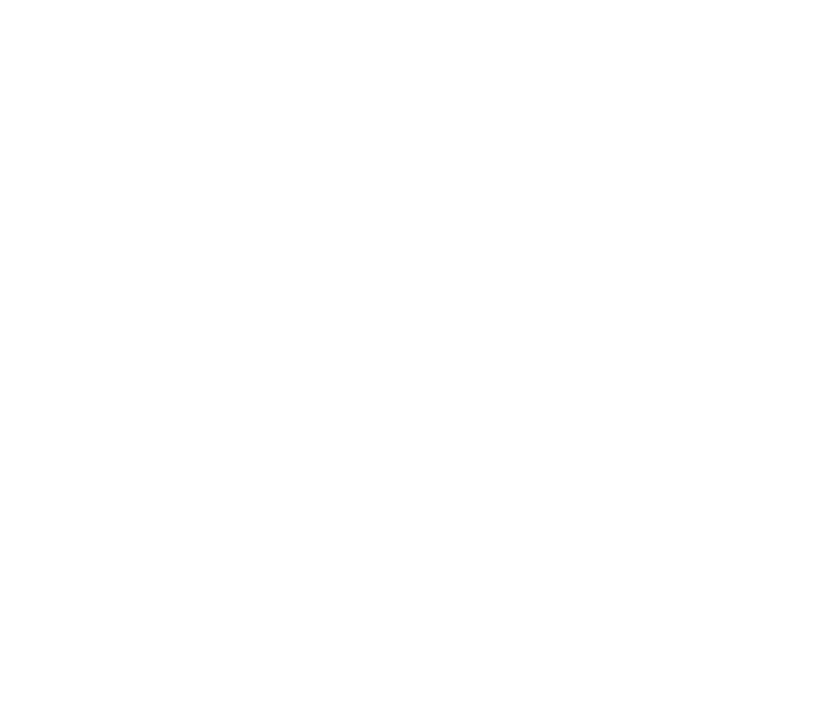Торфяники горят даже зимой
Смог может вернуться в Москву будущим летом, предупреждают экологи. Эксперты Гринписа узнали, что московские и подмосковные власти планирует потратить десятки миллионов рублей, чтобы снова превратить торфяники в болота. Но Гринпис уверен, что этого недостаточно, ведь Россия встретит новое лето со старым Лесным кодексом.
По крайней мере, в двух районах Подмосковья – Луховицком и Шатурском – вновь горят торфяники. На некоторых участках мощность горения невелика, однако на других, к примеру, на болоте Радовицкий мох, горение продолжится до начала пожароопасного сезона. Дым уже виден с дорог, заявляют в Гринпис.
Как объясняют подмосковные власти, горение возобновилось потому, что торфяники находятся выше уровня обводнения. Эти участки весной потухнут сами – в период половодья. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Николай Пищев. Он добавил, что задача правительства – вовремя осуществить сброс паводковых вод.
Однако экологи Гринпис забили тревогу. Тающий снег не сможет затушить торф, горящий даже на глубине полуметра. А на этих участках Подмосковья он может гореть на всей глубине залегания. Об этом рассказал эксперт лесной программы Гринпис Михаил Крейндлин:
– По нашим оценкам, никакой паводок до конца затушить огонь не сможет. Если будет даже не жаркая, а хотя бы сухая весна, торфяники сами собой не погаснут, и могут начать гореть леса. А как раз в районе торфяников – огромное количество сгоревших в прошлом году лесов, которые сами по себе пожароопасны. Ситуация с ними может быть хуже, чем в прошлом году.
Михаил Крейндлин добавил, что затопить торфяники простым обводнением невозможно. Тем более что некоторые участки торфа в период летних пожаров вообще не заливались. Эксперт рассказал, что необходимо сделать, чтобы к лету предотвратить катастрофу, подобную прошлогодней:
– Осенью, как только основные пожары погасли, надо было, в первую очередь, убирать сгоревшую и заваленную сухую древесину, гасить до конца торфяники. А этого никто не сделал – леса гореть перестали, и тушить их бросили. Сейчас их снова начали тушить, но на этих работах задействованы небольшие силы, – сказал Михаил Крейндлин.
В конце 2010 года было залито водой около шести тысяч гектаров торфяников. Об этом заявил губернатор Московской области Борис Громов. На обводнение было затрачено около 300 миллионов рублей. Еще 4 миллиарда требуется для того, чтобы снова превратить в болота всю пожароопасную территорию – почти 65 тысяч гектаров лесных торфяников. Проблема, по мнению подмосковного правительства, заключается в том, что область не имеет права вкладывать деньги в содержание лесов на своей территории и управлять ими самостоятельно. По мнению эколога и политика Алексея Яблокова, это сделано для того, чтобы деньги от продажи и аренды дорогих подмосковных земель шли федеральным властям:
– По нынешнему законодательству все леса вроде бы находятся в оперативном управлении, на федеральном уровне. Но в двух регионах, один из которых –Подмосковье, леса напрямую управляются федеральными структурами. Это было сделано потому, что земля под Москвой очень дорогая, и, я думаю, не обошлось без какого-то коррупционного интереса. Новый Лесной кодекс привел к тому, что государство вообще ушло из леса. Была разрушена лесная охрана. Надо восстанавливать лесную систему, и только тогда можно будет снова взять ситуацию под контроль, – уверен Алексей Яблоков.
Именно на заброшенных торфяных полях пожары наиболее сильны. Поэтому некоторые эксперты считают, что возобновление торфяных разработок может упростить тушение торфа. Торф является перспективным топливом, а его запасы в России составляют более 170 миллиардов тонн. По мнению экологов, плюсы этой идеи в том, что на предприятиях по добыче торфа устанавливается мощная система мониторинга и пожаротушения. Противники такого метода борьбы с торфяными пожарами замечают, что добытчики не смогут ограничиться уже отработанными участками, они будут разрабатывать и новые торфяники, которые после этого также будут гореть.
Лесные и торфяные пожары лета 2010 года были спровоцированы сильнейшей жарой и засухой. От пожаров пострадали пять подмосковных населенных пунктов, почти 400 человек лишились жилья. Деревня Моховое в Луховицком районе сгорела почти полностью. Москва более двух недель была затянута дымом. Из-за сильного смога и жары смертность в столице выросла почти в два раза.
Источник
Могут ли гореть торфяники зимой
Торфяные пожары развиваются на торфяных почвах. Они бывают в лесах и на открытых пространствах.
Эти пожары медленно распространяются, часто не тушатся дождями, переживают зиму. Дым от таких пожаров особенно опасен. Нередко от торфа повторно загораются трава и лес.
Торф — полезное ископаемое. Он образуется из болотных растений, которые не до конца разлагаются при повышенной влажности и недостатке кислорода. Торф используют как топливо и как удобрение.
Торф есть на болотах и там, где они раньше были.
В прошлые годы болота в России активно осушали. Делали это чтобы добывать торф (его использовали как топливо многие электростанции), и чтобы вести сельское хозяйство на месте болот.
Сейчас в России около 5 млн га осушенных торфяников. Наша страна находится на втором в мире месте по запасам торфа.
Большинство осушенных болот заброшены. Эти земли не рекультивированы и фактически бесхозны.
Сам торф не всегда просто отличить от почвы. Он темного цвета, оставляет следы на руках, содержит много остатков растений.
При некотором навыке осушенные торфяники хорошо опознаются на местности и космоснимках. Для этих мест характерна сеть канав, иногда карьеров.
Если что-то подобное есть рядом с вашим населённым пунктом, скорее всего это торфяник. Похожую сеть канав имеют рисовые чеки, но они характерны всего для нескольких регионов. Для Центральной России и Северо-запада расположение осушенных болот смотрите на Лесном форуме Гринпис.
А ещё рядом с торфоразработками бывают населённые пункты с характерными названиями: «Торфяной», «Моховое». Такие названия намекают: тут были болота или велась добыча торфа. Обратите внимание и на названия типа «Остров», «Северная грива». «Гривами» называют приподнятные, более сухие части болот. Когда болота были озерами, «гривы» были островами или песчаными косами.
Часто заторфованы поймы рек.
Вопреки множеству мифов, в залежи, даже осушенной и частично выработанной, торф не загорается сам.
Случаи саморазогрева и последующего самовозгорания встречались только в штабелях (караванах) добытого фрезерного торфа с влажностью 35%, и даже там это большая редкость.
Большинство торфяных пожаров возникает весной из-за поджогов травы на торфяниках и рядом с ними.
Торфяные очаги возникают также из-за костров и брошеных окурков (на торфе вообще не стоит разводить костры).
Источник
Осиновые колья для зомби-пожаров
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России, один из лучших специалистов в мире по тушению торфяных пожаров. Учился в МПГУ им. Ленина, в дружине по охране природы биофака МГУ занимался противопожарной работой. Работал государственным инспектором по охране природы Московской области. Служил в пожарной охране МВД, затем МЧС. Одновременно руководил группой добровольных лесных пожарных. Соавтор методических пособий по тушению пожаров на природных территориях. Опыт тушения пожаров около 20 лет. В 2018 году вошёл в десятку лучших лесных пожарных России.
Мнение эксперта 5 минут 10/06/2020
читать и обсуждать наши новости в телеграме читайте наши новости в телеграме
В этом году американская пресса, а потом и наша, стала много писать о «зомби-пожарах». Началось с того, что этой зимой на Аляске со снегоходов люди наблюдали, как из-под снега дымили торфяники, не потушенные осенью. Действительно, явление это любопытное и экзотичное.
Выражение «зомби-пожары» очень образное. Это пожар, который действует в земле. Ты можешь его тушить и тушить, тебе кажется, что ты его окончательно победил, «убил», а через некоторое время он вылезает из-под земли или из-под снега — и начинаются неприятности.

Вообще зимующие торфяные пожары, а речь идёт главным образом о них, это вовсе не редкость. Почти каждый год они обнаруживаются в каком-нибудь регионе России. Обычно они тлеют и дымятся до середины зимы, а весной их чаще всего тушит тающий снег. Если какие-то из них переживают зиму, то отследить и потушить их — обычная работа пожарных. Это не архисложная задача и много времени не занимает.
Гораздо больше проблем весной создают «человеческие» пожары, которые — что в Канаде, что в России — люди устраивают каждый год, поджигая траву, бросая окурки, оставляя непотушенными костры. Именно так загораются поля, загорается лес, огонь приходит на торфяники. Некоторые из них будут тлеть много месяцев, а какой-то из них может стать зомби: перезимует и продолжит гореть в следующем году.
Сами зимующие пожары пока не представляют большой проблемы. Но они — очень наглядное и яркое свидетельство того, что происходит изменение климата. Из-за него такие пожары уходят все дальше на север. И вот уже мы читаем о настоящих сенсациях: о пожаре в Исландии или где-то далеко за полярным кругом в России или в Канаде.

Беда ещё и в том, что если до сих пор горели, в основном, осушенные торфяники, а их всё же не так много, то с изменением климата пожары смогут возникать и на обычных, неосушенных болотах. В таких торфяниках обычно много воды, и пожары случаются там очень редко: раз в сотни, даже в тысячи лет. Пожары туда могут прийти из лесов только в самые засушливые годы, и гореть они будут только на поверхности.
Но с изменением климата всё может пойти не так. Если будут случаться долгие засухи и бесснежные зимы, то торфяные пожары могут начаться на болотах, которые находятся очень далеко на севере, на труднодоступных или вообще недоступных территориях. Эти пожары смогут действовать и возобновляться в течение многих месяцев. От них будут снова и снова разгораться леса, и даже если пройдут дожди, они не смогут потушить горящий торф. И этот процесс может стать круглогодичным. Будет происходить постепенное выгорание запасов органики, которые накопились в этих болотах примерно за 10 тысяч лет.
Это гигантские запасы, и их горение может стать настоящей катастрофой. Например, у нас в Западной Сибири есть Васюганские болота, их площадь — десятки тысяч квадратных километров, это больше, чем площадь Дании. Только разведанных запасов торфа там примерно миллиард тонн. Сейчас эти торфяники иногда горят по краям, но если они начнут гореть по-настоящему, это станет реальным бедствием.

При таких пожарах происходят огромные выбросы парниковых газов. Они ускоряют изменения климата, а это, в свою очередь, создает условия для новых пожаров. Дым, который приходит от торфяных пожаров в города, самый токсичный и очень опасен для людей. В его составе угарный газ, из-за которого растет смертность в городах, очень мощный канцероген бензапирен и формальдегид.
Гигантские неосушенные торфяники есть по всему миру и не только в полярных областях. Например, в бассейне реки Конго или в бассейне Амазонки: и там, и там есть огромные залежи торфа, которые ещё никогда не горели. В тех местах роль снега выполняют сезонные дожди. И если из-за изменения климата они прекратятся, а люди будут устраивать там пожары и не тушить их вовремя, нас ждут очень серьёзные климатические проблемы.
Торфяники — это мощнейшая климатическая бомба, фитиль которой уже тлеет. И нам надо делать всё, чтобы успевать его потушить, пока не сдетонировало. Во-первых — перестать устраивать эти пожары. Даже на далёких северных территориях в 90 процентах случаев устраивают их люди. Прекратить профилактические выжигания, перестать поджигать траву, степи, пастбища, как это делают, например, в Якутии.
И, конечно, нужно учиться жить в новых реалиях, быстро и правильно реагировать на пожары, используя самые современные технологии и технику: тепловизоры, беспилотники, вездеходы. А для обширных, зимующих пожаров на торфяниках, пожалуй, самое подходящее системное решение — это обводнение и устройство плотин, чтобы весенняя вода не ушла и полностью «убила» зимующие пожары.

Кстати, возвращаясь к зомби: говорят, что убить их можно осиновыми кольями. Осина — это любимый корм бобров. Они её грызут и оставляют торчащие из земли осиновые колья. Бобровые плотины держат довольно высокий уровень воды, и это прекрасное средство против зимующих пожаров. Если видишь осиновые колья — это верный признак того, что зомби-пожары здесь не случатся.
Больше интересных подробностей о том, что такое торф, чем он полезен и какие таит опасности, вы найдёте в публикации «Адово пекло в цветочном горшочке». А ещё можно почитать осовременных технологиях и инструментах в борьбе с пожарами на торфяниках, о том, как обводняют болота и как пожары влияют на климат и наоборот.
Источник
Как «воспламеняются» торфяники
С торфяными пожарами связано огромное количество разнообразных мифов и суеверий. Многие люди верят в то, что торфяники «воспламеняются» сами по себе, и что многие торфяные пожары «практически невозможно потушить», потому что они охватывают очень большие площади и уходят вглубь торфа на очень большую глубину. Разберем эти мифы на примере торфяного пожара, который как раз сейчас может начаться в Новгородской области, в сорока километрах к юго-западу от города Чудово. Речь идет о крупном (более 25 тыс. га) осушенном и в основном выработанном торфянике — заброшенном торфяном месторождении Тесовского торфопредприятия. Некрупное торфопредприятие (Тесово-1) работало на этом торфянике до недавнего времени, но окончательно закрылось в августе 2019 года. Пока с уверенностью можно говорить только о крупном травяном пожаре, произошедшем на этом торфянике — но условия нынешней весны таковы, что горение сухой травы, скорее всего, привело к возникновению очагов тления торфа.
Вот этот пожар на космоснимке Sentinel 2 за 26 марта 2020 года (синтез каналов 12-8-2 — именно это сочетание лучше всего использовать для выявления торфяных пожаров на ранних стадиях развития). На снимке видны два пожара — один в верхней части, более крупный и яркий, и второй в нижней, выглядящий как группа отдельных мелких горячих точек. Верхний — это пал сухой травы на осушенных и заброшенных сельхозземлях, лишь частично заторфованных; нас интересует не он, а нижний (более южный):
Вот он при более крупном масштабе:
Все термоточки располагаются на одной прямой — вдоль насыпи бывшей магистральной узкоколейной железной дороги Тесовского торфопредприятия. Информации с места пока нет, но можно с уверенностью утверждать, что это горит сухая прошлогодняя трава на насыпи железной дороги и вдоль нее. Кто и зачем ее поджог — однозначно сказать невозможно, но, как говорится, дураков у нас лет на сто припасено, и денег на спички им пока хватает. К тому времени, когда прошлогодняя трава просыхает до такого состояния, что может интенсивно гореть, торф на отдельных повышенных участках на осушенных торфяниках и брошенных торфяных месторождениях тоже просыхает до состояния, при котором он может тлеть. Такими повышенными и рано просыхающими участками могут быть насыпи узкоколейных железных и иных дорог, отвалы осушительных каналов, бурты добытого и не вывезенного торфа, стенки старых прогаров (ям, образовавшихся при выгорании торфа при предыдущих пожарах), и даже отдельные кочки. Конечно, весной еще слишком сыро и холодно, чтобы тление торфа от горящей сухой травы началось по всей площади пала — но достаточно и отдельных небольших очажков, чтобы торфяной пожар начался. Постепенно очаги тления расширяются и заглубляются, и уже через несколько сухих дней становятся малоуязвимыми для осадков. Чем больше времени проходит, тем глубже в торфяную залежь уходит тление, и тем более сильные дожди может такой очаг пережить. А дальнейшая его судьба зависит от погодных условий конкретного года. Если лето оказывается сырым и холодным, тление сохраняется на относительно небольшой площади, а торфяной дымок досаждает разве что жителям ближайших поселков и дач. Если же лето оказывается сухим и жарким, то тление распространяется все быстрее и быстрее, площади пожаров растут, дыма становится все больше, особенно, если от тлеющих торфяных очагов воспламеняется уже новая подсохшая трава, по которой огонь разносится гораздо быстрее и дальше. В самые засушливые годы в основном именно такие торфяные пожары, начавшиеся еще весной от палов сухой травы, приводят к сильному задымлению обширных территорий.
Чей это пожар, кто должен его выявлять и тушить? По нашему законодательству это в первую очередь зависит от категорий земельных участков. В данном случае это земли бывшего торфопредприятия, фактически брошенные и ничейные. Небольшая их часть отнесена к землям лесного фонда — изолированным кварталам леса на выработанном торфяном месторождении. В частности, насыпь узкоколейки, на которой действует пожар, пересекает квартал 67 Советского участкового лесничества — но видимые на снимке очаги горения сухой травы в границы этого квартала не попадают. В такой ситуации по закону за организацию тушения пожаров силами государственной противопожарной службы отвечают органы государственной власти субъекта РФ, но обычно эти полномочия специальным соглашением регионы передают МЧС. В частности, в Новгородской области с 1 января 2020 года действует такое соглашение, подписанное 15 августа 2019 года и утвержденное распоряжением Правительства РФ от 9 октября 2019 года № 2352-р. То есть организовать тушение этого пожара совершенно однозначно должно Главное управление МЧС России по Новгородской области.
Потушить этот пожар, сколько бы там ни оказалось очагов тления торфа, сейчас легко: к нему есть подъезд (по насыпи узкоколейки), да и вообще он находится на расстоянии чуть больше километра от одной из главных дорог нашей страны — автомагистрали М10 Москва — Санкт-Петербург. Воды для тушения вокруг вполне достаточно. Но если пройденную травяным пожаром площадь на осушенном торфянике не проверить сейчас, не выявить возникшие очаги тления торфа и не потушить, пока вокруг много воды — вполне может возникнуть ситуация, при которой сил всей местной или даже региональной пожарной охраны не хватит, чтобы справиться с торфяным пожаром летом.
Пока про этот травяной и, скорее всего, торфяной пожар никакой официальной информации нет. Справедливости ради отметим, что горение травы было слишком беглым или слишком слабым, и не привело к появлению термоточки по данным сенсоров VIIRS или MODIS — травяной пожар хорошо виден только на снимке Sentinel 2 с более высоким разрешением. Но обратить на него внимание пожарной охране точно следует, пока дело не дошло до чего-то более крупного и серьезного.
При том обилии травяных палов, какое мы видим сейчас почти по всей Средней полосе, и при малой обводненности торфяников после теплой и малоснежной зимы, возможно появление очень большого количества очагов тления торфа — и, соответственно, большого количества торфяных пожаров в случае летней засухи. Чтобы летом хватило сил на борьбу с ними, основную их часть нужно найти и потушить еще весной.
Источник